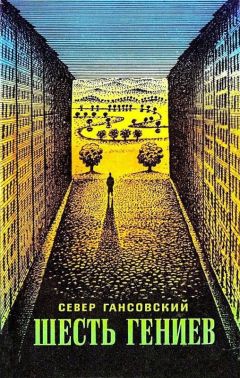— Вот друга привел познакомиться, — кивнул он на гостя. — Хорошей парень, Кисляков его фамилия. Вместе в школе учились. Он эфир слушает.
— Приемник? — перетерпев боль, спросил Агеев.
— Приемник. Старенький, правда, — тихо сказал Кисляков.
— Это хорошо. Так что там?
Неподвижно сидя на охапке сена, Кисляков шмыгнул коротеньким острым носиком и складно, как заученный урок, сообщил:
— Сводка за двадцать седьмое. Наши войска после тяжелых и упорных боев оставили город Таллинн. Один наш бомбардировщик таранил немецкий «юнкере». Тяжелые бои на Смоленском направлении…
Агеев выслушал его молча. Он уже знал, что если, по сводке, бои на Смоленском направлении, то Смоленск, наверное, тоже уже у немцев, сводки Совинформбюро всегда запаздывали, судя по всему, наступление немцев продолжалось.
— Как все обернулось, все покатилось, кто бы сказал, кто бы недавно еще подумал! — сокрушенно проговорил Молокович.
— Да, обернулось, черт бы его побрал! Ну а что в местечке?
— Да что в местечке? В местечке форменный разбой. Немцев, можно сказать, еще нет, так полицаи свирепствуют. Откуда-то прибыл уже и начальник, Дрозденко какой-то. Видел его вчера, как вешать этих вели…
— Кого вешать?
— Двоих окруженцев повесили возле базара. Оказали сопротивление при задержании.
— Полицаи, конечно, врут, — тихо перебил Кисляков. — Взяли их, сонных, у будочника на переезде. Ночью зашли, ну и поснули. А утром полицай Стасевич заскочил на переезд и побрал их сонных, как куропаток.
Агеев внимательно слушал, вглядываясь в невеселые лица молодых ребят, жителей этого местечка. Случившееся с окруженцями касалось его непосредственно, ведь он тоже, по сути, был окруженцем — со всеми вытекающими последствиями. Им же был и Молокович, хотя с той разницей, что обретался по месту жительства и тем не нарушал немецких порядков, а для бездомного Агеева был уготован полевой лагерь военнопленных. Это в лучшем случае, если без сопротивления, с высоко поднятыми руками.
Молокович между тем рассказывал:
— Стасевич — это же сосед мой. Рядом хата, в коллективизацию из деревни перебрался к родственникам жены. В промкомбинате мастером работал, в бондарном цехе. Вроде и неплохой был сосед, с Колькой его в школу ходили, тот годом позже шел, теперь на Дальнем Востоке служит. А этот вчера приперся, говорит, проведать фронтовичка. Бутылку принес. Ну, вы-пили, а он давай агитировать. Говорит: «Ваша песенка спета, товарищи красные командиры, теперь под Гитлером будем». «Ну, это еще как посмотреть», — говорю. А он: «Нечего смотреть, иди в полицию, пока еще берут, а то поздно будет. Вон наш начальник в Красной Армии капитаном был, а теперь на немцев работает, жидам чоху дает!» Ну, вы понимаете? Как мне, лейтенанту, слушать такую агитацию?
— Ну и что ж ты ему ответил? — сдержанно спросил Агеев.
— Я? А ничего. Я смолчал. Но очень мне хотелось в него мой «ТТ» разрядить.
— Вот молодец! — язвительно сказал Агеев. — Тут бы они тебя и вздернули. Третьим.
Молокович, казалось без внимания к его язвительности, несколько тише сообщил как о твердо решенном:
— Я его все равно пристрелю. Он же мою учительницу арестовал. Отправили в Слуцк. Вот это и будет мой личный вклад в борьбу с оккупантами. Шлепну и смоюсь. Нельзя нам тут долго оставаться.
Агеев промолчал, он был такого же мнения, только не хотел откровенно говорить при этом скромном парнишке. Кто его знает, кем стал этот друг Молоковича за время войны.
— Как твое плечо? — попытался Агеев перевести разговор на другое.
— Плечо заживет. Еще денька три-четыре, и сниму повязку.
— Ну так вот, пока не снимешь повязку, не рыпайся. А то сам по глупости влипнешь и мать подведешь.
— Ну, мать как-нибудь перебьется. А братишка сам норовит что-нибудь против них выкинуть. Вон у Кислякова побольше — четверо с матерью, — и то не дрейфит, радио слушает.
От неловкости поерзав на своем мягком сиденье, Кисляков смущенно пробормотал:
— Бояться — не то слово. Страшно, конечно. Но надо. Если поддаться страху…
— А отец ваш где? — спросил Агеев.
— Отца мобилизовали. В первый же день.
— Самого не призывали?
— Нет. Непригоден по зрению.
— Он студент, — пояснил Молокович. — В Минске в госуниверситете учился. Окончил два курса…
— Да что о том! — махнул рукой Кисляков, и его остроносенькое лицо сделалось совсем печальным. В сумерках утра он выглядел до срока состарившимся мальчишкой, этаким застенчивым умным гномиком.
— Да-а. Ну а что люди говорят? Какое настроение у народа?
От этого вопроса Агеева Кисляков заметно подобрался, вроде бы даже оживился и принялся охотно объяснять:
— В основной массе людей настроение патриотическое. Но все ждут. Эти успехи немцев, конечно, не могли не вызвать некоторой растерянности. Но это на время. Скоро начнется всеобщее выступление. Особенно если будут продолжаться репрессии. А они, несомненно, будут продолжаться, потому что возрастет сопротивление. Эти две вещи взаимосвязаны и взаимообусловлены.
— А что же руководство района? Интеллигенция?
— Тут, видите, какая ситуация: из партруководства почти никого не осталось. Интеллигенции тоже. Кого мобилизовали в первые дни, кто в родные края подался. Учителя, например. Но я так думаю, существует оставленное подполье. Так же как и партизанские отряды.
— Это должно быть! Это обязательно! — с жаром подхватил Молокович. — У нас тут в гражданскую знаменитый партизанский отряд действовал. Отряд Маковчука. Где-то они и теперь должны быть. В Сыромятовских лесах, наверно.
— Они знают где, — тихо отозвался Кисляков.
— Было бы неплохо связаться, — сказал Агеев.
Но Молокович возразил:
— А нам-то зачем? Нам партизаны ни к чему. Что я, в партизанах воевать буду? Мое место в армии, на фронте. Я же средний командир все-таки.
— На всякий случай, — сказал Агеев.
— Нет, нам это не подходит. Это для дядьков деревенских, бородачей, пусть они в лес идут, шалаши строят. Мое дело на фронте. В полк надо нам, я так думаю, — горячился Молокович.
— Ты хорошо думаешь, — с горечью сказал Агеев. — Но вот застряли мы тут, и еще посидеть придется. Фронт, вон он где, а я пока не ходок, сам понимаешь. Еще неделю наверняка проваляюсь.
— А то и побольше, — сказал Молокович и в сердцах шлепнул себя по колену. — Ну что ж, может, за это время война не закончится…
Он вскочил с топчана, запахнув на груди кургузый свой пиджачишко, надетый поверх линялой, в полоску сорочки, совсем не похожий на себя, недавнего лейтенанта — высокий, сельского вида парень с решительным выражением загорелого лица.
— Да, забыл сказать: завтра тут что-то затевается. Всем рв-реям приказано собраться возле церкви, куда-то переселять будут.
— Куда переселять? — не понял Агеев.
— А черт их знает куда!
— Приказано взять еды на трое суток, ценные вещи, — добавил Кисляков.
— Значит, куда-то погонят. Может, в концлагерь или еще куда. Их разве поймешь, фашистов этих. Ну так поправляйтесь, товарищ начбой. Я буду забегать, если что…
Когда их шаги затихли на подворье, Агеев откинулся спиной на подушку и долго лежал так, томимый неизвестностью, смутным предчувствием худшего. Все было тревожно и неясно. Правда, неясностей хватало с самого начала войны, он уже стал привыкать к ним, во многом полагаясь на свою смекалку, сообразительность и находчивость. Но до сих пор он был солдат, и не в его власти было принимать значительные решения — решения принимались другими, ему же предстояло их выполнять. Здесь же он оказался в положении, когда сам стал начальником и подчиненным в одном лице, сам должен был принимать решения и сам исполнять их, что оказалось трудным и весьма непривычным. Особенно в таких вот обстоятельствах, когда ни черта толком неизвестно и любой промах может обернуться гибелью. Хорошо бы гибелью одного тебя. А то вот круг причастных к нему людей все расширялся, был один Молоко-вич, теперь за несколько дней к нему присоединились Барановская, Бвсеевна, Кисляков; в случае, если он где промахнется, им не поздоровится тоже.
Лежа и думая так, Агеев все посматривал на оставленные Молоковичем гостинцы — завернутый в старую газету хороший брусок сала, несколько яиц, ломоть черного, видно, домашней выпечки хлеба. На душе у него было погано, ночное беспокойство еще усилилось. Но он потянулся к хлебу и, отломив кусок, стал неторопливо жевать. Кажется, аппетит к нему возвращался, и он подумал, что, может, теперь пойдет на поправку. Еще пару дней, и он найдет в себе силы вылезти из этого чулана, а там найдутся силы и на большее. Что-то все-таки надо было предпринять, он явственно сознавал, что в такое время его вынужденное бездействие было почти преступным. Когда война оборачивалась такой бедой, он не имел права сидеть сложа руки. Хотя бы и раненый. У него на это не хватило бы выдержки, и никакие соображения не могли оправдать его уход от борьбы. Он отлично понимал нетерпение Молоковича, хотя и опасался, как бы тот по горячности не наделал глупостей и не погубил его и себя. Гибель могла быть оправдана только в схватке, а к схватке он еще не был готов. Ему надо было подлечить рану.
![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](https://cdn.my-library.info/books/143757/143757.jpg)